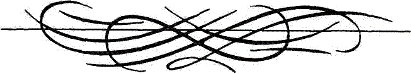
Среди обширных и многообразных научных интересов Г. В. Степанова в области романской филологии, общего языкознания и литературоведения особое место занимают исследования по испанскому языку, которым он увлекся еще на студенческой скамье, став в 1937 г., студентом романского отделения Ленинградского университета. В июне 1938 г., в разгар гражданской войны в Испании, он поступает на краткосрочные курсы переводчиков испанского языка, а затем оказывается в Испании и принимает участие (1938—939 гг.) в национально-революционной борьбе испанского народа. С тех пор испанская тема стала ведущей в научном творчестве Г. В. Степанова, а испанский язык стал его amor linguae, как удачно выразил отношение лингвиста к исследуемому языку Ю. Н. Караулов в одной из своих недавно опубликованных книг.1
Поступив после окончания университетского курса в 1947 г. в аспирантуру, он выбрал тему, которой увлекся еще в студенческие годы: «Роль Сервантеса в становлении испанского национального литературного языка», которую защитил в качестве кандидатской диссертации в 1951 г.
Верность избранной проблематике исследования языка эпохи его национального развития и существования проявилась в середине 50-х годов, когда Г. В. Степанов, резко раздвигая рамки привычной испанистики, обратился одним из самых первых в нашем языкознании к разработке новых проблем, связанных с национальными испаноязычными формами речи в странах Латинской Америки.
С этого времени и до конца своей жизни, занимаясь общими вопросами теории языка и социальной лингвистики, Г. В. Степанов никогда не забывал две основные темы своей научной биографии — формирование испанского литературного языка и испанский язык Латинской Америки.2
Интерес к латиноамериканским формам испанской речи возник у Г. В. Cтепанова отчасти под влиянием акад. В. Ф. Шишмарева,
считавшего серьезным просчетом романистики то, что в поле зрения ее не попадает Новая Романия, между тем как здесь, по его мнению, в своих исторических условиях проходят языковые процессы, изучение которых важно не только само по себе, но и для выяснения ряда «темных мест» общероманской языковой истории. Интерес Г. В. Степанова к изучению испанского языка в Новой Романии был поддержан также акад. В. М. Жирмунским, который уделял в своей научной деятельности исключительно большое внимание вопросам социологии языка и позже был одним из оппонентов докторской диссертации Г. В. Степанова, посвященной испанскому языку в латиноамериканских странах.3 В то же время сложившийся под влиянием этих благоприятных рекомендаций личный исследовательский интерес Г. В. Степанова находил общую поддержку, поскольку в этот период стала определяться научная потребность в том, чтобы обратиться к исследованию состояния системы таких языков, как английский или немецкий, обслуживающих, как известно, несколько самостоятельных национально-государственных общностей. В этом отношении испанский язык, обслуживающий группу стран Латинской Америки, не только удачно входил в ряд таких полинациональных или национально негомогенных языков, но и становился убедительным свидетельством достаточной универсальности соответствующих национально-языковых ситуаций в современном мире, оценить которую в полной мере языкознание не смогло.
В самом начале рассмотрения этой проблемы и вклада, который внес в ее разработку Г. В. Степанов, необходимо подчеркнуть, что лингвисты уже неоднократно и в прошлом обращали внимание на факты неидентичности языка самому себе на всей территории своего распространения, подчеркивая, что он сохраняет свое единство лишь в определенных условиях. Так, в германистике А. Бах в связи с этим замечал: «Простое рассуждение и повседневный опыт показывают, что носителем сколь-нибудь единого диалекта всегда является определенный коллектив сношений. Там, где группы людей, говорящих на одном языке, разъединены, речь обособившихся объединений приобретает в конце концов свои характерные черты».4 В отечественном языкознании вопросам обусловленности языкового развития обстоятельствами жизни социальных групп большое внимание уделял еще акад. Л. В. Щерба, который подчеркивал, что в языковой системе мы имеем «некую социальную ценность, нечто единое и общеобязательное для всех членов данной общественной группы, объективно данное в условиях жизни этой группы. . . Но малейшее изменение в содержании, т. е. условиях существования данной социальной группы, как-то: иные формы труда, переселение, а следовательно, и иное окружение и т. п., немедленно отражается на изменении речевой деятельности данной группы и притом одинаковым образом, поскольку новые условия касаются всех членов данной группы».5
Особенности системы литературного языка, развивающиеся в полинациональном языке на национальном уровне, также уже давно привлекали к себе внимание специалистов. Так, В. Д. Аракин еще
в 30-х годах опубликовал в журнале «Иностранный язык в школе» статьи, в которых рассмотрел в общих чертах вопрос об английском языке в Америке,6 а в послевоенное время этой теме посвятил свое выступление в том же журнале Б. В. Братусь, который, справедливо критикуя псевдонаучные воззрения Г. Менкена на английский язык США как на отдельный американский язык, необоснованно пренебрег тем, что английский язык в США представляет собой, по Щербе, собственную «социальную ценность», заявив о наличии здесь некоего «американо-английского диалекта».7 Однако только в 50-е годы в результате взвешенного отношения к проблеме взаимоотношения языка и нации и пристального изучения американского состояния английского языка лингвисты пришли к выводу о существовании особого литературного образца (нормы) английского языка в США. Впервые такое заключение было сделано А. И. Смирницким, который, пусть не в специальном исследовании, а попутно, при изучении строя древнеанглийского языка, заявил: «Самый образец английского языка в США является иным, чем в Великобритании. . Таким образом, литературный английский образец в Соединенных Штатах и литературный английский образец в Великобритании. . . противостоят друг другу как два основных варианта английского языка: американский английский и британский английский — варианты одного и того же языка».8 По сути дела этот вывод был первым теоретическим и терминологическим прорывом при изучении характера системы полинационального литературного языка и оценке статуса своеобразия нормы языка, выявляемого на национальном уровне. Так, Э. Г. Ризель еще в 1953 г., занимаясь вопросами национального языка в Австрии по существу первая употребила понятие «вариант» языка и подчеркивала наличие здесь «национальных черт», «австрийских особенностей в рамках немецкого языка», «национальных особенностей внутри немецкого языка», однако не смогла прийти к убедительным выводам и обобщениям. Говоря об австрийских особенностях в лексике, она определяла их в качестве своеобразных дублетов, находящихся «на разных ступенях внедрения в общий словарь литературного немецкого языка».9 Подобное утверждение предполагает, что австрийские формы (дублеты) еще не обладают статусом равноправной, паритетной нормы, а с другой стороны, такой взгляд теоретически ориентирует на перспективу нивелирования национальных особенностей языка путем вхождения их, по мнению автора, в конечном счете, в «общий словарь» литературного языка. Таким образом, в то время, когда во второй половине 50-х гг. вопросами национального состояния системы единого литературного языка стал впервые вплотную заниматься Г. В. Степанов, в языкознании по этому поводу имелись лишь отдельные, позднее себя вполне оправдавшие, высказывания (мнения А. И. Смирницкого) либо суждения, не обладавшие достаточной научной ценностью (оценки Э. Г. Ризель), но отсутствовала сколь-нибудь удовлетворительная целостная теория, на основании которой можно было бы подвергнуть научному анализу вопросы национально-языковых отношений во многих странах.
Впервые свои идеи в отношении проблем изучения испанского языка в странах Латинской Америки Г. В. Степанов изложил на страницах академического журнала «Вопросы языкознания» в 1957 г. Обратившись к исследованию испано-американских форм речи, он подчеркивал, что с самого начала необходимо говорить о существовании здесь особенностей испанского языка на «национальном уровне», о «национальных особенностях» испанской речи в Латинской Америке, отдельные национальные формы которой он называл в то время «разновидностями»,10 т. е., согласно толковым словарям, видоизменениями, частными видами какого-либо типа или явления, вариантами. Говоря о закономерностях таких процессов образования языка, Г. В. Степанов подчеркивал, что «диссоциирующие тенденции» в этих разновидностях не могли получить свободного развития, и распада языковой общности не произошло, хотя совершенно закономерно выявились факты расхождений как между испано-американскими формами языка и испано-европейским языком, с одной стороны, так и между отдельными испано-американскими разновидностями в странах Латинской Америки — с другой. Имея в виду взаимопринадлежность всех латино-американских ипостасей испанского языка к одному общему лингвистическому понятию единого (испанского) языка, Г. В. Степанов предлагал их квалифицировать «как разновидности испанского языка с совпадающими тенденциями развития до сих пор единой в своей основе языковой структуры».11 Таким образом, выступления Г. В. Степанова по вопросам развития и функционирования национальных форм одного и того же языка, как и высказывания А. И. Смирницкого, а также ранний, «дотеоретический» интерес к характеру и состоянию системы литературного языка за пределами его основной или исходной территории распространения (В. Д. Аракин и др.), — все это определило научную проблему и заложило основу, на которой позднее стало развиваться это новое исследовательское направление, раздвинувшее рамки проблематики изучения путей формирования национальных языков. Оценивая результаты этих начинаний Г. В. Степанова, Е. М. Вольф и Ю. С. Степанов недавно писали, что его исследования и теоретические разработки позволили по-новому подойти к пониманию национального языка в сложных условиях существования многих вариантов как языка, имеющего возможности самостоятельного и независимого развития, причем отношение вариантов единого языка друг к другу должно осмысляться как паритетное в социальном, культурном, политическом и лингвистическом аспектах.12
Началом широкого теоретического изучения состояния полинациональных литературных языков в их национальном пространстве, при всем том, что, как было отмечено выше, уже было подготовлено в нашем языкознании в этом отношении в 50-е годы, следует признать прежде всего монографическое исследование Г. В. Степанова «Испанский язык в странах Латинской Америки»,13 послужившее в дальнейшем основой для его докторской диссертации.14 В это же время в издательстве «Высшая школа» вышла в свет
книга А. Д. Швейцера «Очерк современного английского языка в США»,15 а позднее — книга автора этих строк «Очерк современного немецкого языка в Австрии»,16 в которых аналогичная проблематика исследовалась на материале английского и немецкого языков. Таким образом, в поле зрения исследователей оказались наиболее распространенные полинациональные языки — испанский, английский, немецкий. В начале 70-х годов вышла в свет книга Е. А. Реферовской «Французский язык в Канаде»,17 послужившая примером для изучения других национальных разновидностей французского языка (Бельгия, Швейцария).
Согласно наиболее общему представлению, сформулированному в различных публикациях этого периода, национальные разновидности или варианты являются определенными формами приспособления единого языка к условиям, нуждам общественного развития и традициям наций — носителей данного языка и представляют собой особые формы функционирования единого языка.18 Так, говоря об испанском языке в странах Латинской Америки, Г. В. Степанов подчеркивал: «У американской разновидности испанского языка за четыре с лишним столетия сложилась своя история, в странах Латинской Америки возникла своя языковая традиция, своя языковая политика, свое эстетическое понимание норм общенародной речи».19 Следовательно, основное значение высказанных положений сводится к тому, чтобы заключить, что в условиях раздельного применения единого языка в своем собственном территориальном, историческом и социальном пространстве в нем развиваются в каждом отдельном случае свои характерные черты, в соответствии с которыми язык данной общности дифференцируется от данного языка другой национальной общности. Иными словами, перефразируя известное высказывание А. Мартине, можно сказать, что благодаря формированию национальных форм единого языка он перестает «быть идентичным самому себе на всей территории своего распространения».20
Однако при определении понятия национального варианта языка недостаточно констатировать наличие у него своих специфических черт и особенностей. Подобно тому как при определении сущности литературного языка вообще, в отличие, например, от диалекта, мы отмечаем его нормированный характер, а главное — наличие обработанной (кодифицированной) нормы, точно так же национальные варианты единого литературного языка проверяются на наличие у них собственной нормы. В связи с этим Г. В. Степанов писал: «Испано-американская разновидность испанского языка, в силу целого ряда обстоятельств культурного, исторического, политического, геоэтнографического порядка, сама превратилась в особую норму (исторически — в норму второго порядка), которая находит свое отражение в устной речи образованных латиноамериканцев и в литературе латиноамериканских стран». При этом он одновременно подчеркивал, что эти нормы имеют автономный характер и собственный авторитет: «Национальная (общенародная) языковая норма собственно Испании не является в настоящее время единственной нормой для всех стран, говорящих на испанском языке».21 При-
знание паритета национальных норм явилось лишь следствием их постепенного развития и утверждения, поскольку поначалу в период «высокого авторитета пиренейской литературной нормы» все местные американские особенности, ставшие нормой для данной местности (Уругвай, Куба и т. д.) и для данной социальной среды (в том числе и для местных культурных слоев населения), рассматривались как диалектные «отклонения», нарушение нормы эталона. Лишь по мере формирования и укрепления латиноамериканских наций и государств, с ростом национального сознания, развитием национальных литератур местные особенности речи утверждаются в качестве местных норм культурной речи.22 Говоря о взаимоотношениях, которые устанавливаются между пиренейской и латиноамериканскими нормами испанского языка, и оценивая возможности их взаимодействия, Г. В. Степанов с сомнением указывал на то, что так называемая «норма паниспанского ареала», которая характеризует общеупотребительный для всех стран испанской речи язык, не содержащий каких бы то ни было элементов, способных вызвать «представление об ограниченности социального или территориального порядка», в настоящее время могла бы оказаться реальностью. «Совершенно очевидно, — заключал он, — что в данном случае мы имеем дело с абстракцией, реальность которой подтверждается теми общими строевыми элементами, которые позволяют говорить об испанском языке, бытующем в двух десятках стран, как о единой системе. Кроме этого объективного «нормального» пласта, имеется целый ряд явлений, нормативность которых определяется престижем, авторитетом той или иной формы речи».23
Если будущее для сформировавшихся национальных латиноамериканских стандартов испанского языка состоит в том, чтобы в ходе их конвергенции они слились в единой общеиспанской норме, то этот процесс может происходить вовсе не обязательно под эгидой пиренейского стандарта в качестве идеала нормы для всего mundo hispanohablante. Реальным путем такого объединения является, по мнению Г. В. Степанова, «участие американского варианта на равных правах с пиренейским, т. е. путь взаимного сближения пиренейской и американской норм». При этом наибольшие «шансы» принять участие в такой «американизации» испанского языка имеют те языковые явления, которые стали всеобщими или имеют тенденцию стать таковыми в латиноамериканском испаноязычном ареале.24 Однако все это, так сказать, область прогнозов, которые в отношении путей развития языка нередко не подтверждаются. Что касается их современного положения, то пиренейская и латиноамериканские формы речи рассматриваются как совокупность паритетных национальных реализаций испанского языка. «Испанский язык, — пишет Г. В. Степанов, — понимаемый как совокупность вариантов (пиренейского, уругвайского, кубинского и т. д.), представляет собой архисистему, включающую в себя несколько частных функциональных систем».25
Национальная нормализация литературного языка является одним из важнейших актов культурно-языкового строительства данной
нации. Ее процессы происходят в русле общих норм и не преследуют целей языкового обособления. Однако национальная норма, отражающая сущность варианта языка, является суверенной и самостоятельной, осознается и поддерживается в пределах каждой национальной общности, т. е. рассматривается в качестве социально нейтральной и престижной, и в отношении ее соблюдается правило лояльности: ей следуют, ее используют. Следовательно, национальный стандарт единого языка считается одинаково образцовым, общественно утвержденным, помещающимся на той же плоскости, что и другая национальная разновидность (вариант) нормы данного языка. «Прошло то время, — подчеркивает в связи с этим В. Н. Ярцева, — когда американский вариант английского считался „испор ченным английским“».26
Признание паритета вариантов единого полинационального языка делает совершенно закономерным требование национальной культуры речи, отвечающей общей задаче как языкового, так и национального строительства в странах распространения данного языка. Между тем реализация этого принципа может наталкиваться на определенные трудности, возникающие нередко по причинам не столько лингвистического, сколько, как правило, культурно-политического свойства. В немецком языке это было характерно для Австрии, где длительное время в прошлом в самой стране и за ее пределами ставился под сомнение самый факт существования австрийской нации и австрийского государства, чем определялось и отрицательное отношение к национальным чертам и особенностям немецкого языка в Австрии. Требование австрийской культуры речи еще в недавнем прошлом определялось неоднозначно, поскольку наряду с широким мнением о необходимости сохранять и поддерживать реально существующие австрийские языковые особенности отмечались крайние взгляды «справа» и «слева». Первые — «пангерманисты в области языка» (Sprachgroßdeutsche) — настаивали на соблюдении «чистой» немецкой литературной нормы, полностью соответствующей собственно немецкому языковому стандарту, в то время как другие, исходя из требований австрийской национальной идентификации и в области языка, высказывали мнение об отказе от немецкого литературного языка вообще и целесообразности возведения в ранг литературного языка австрийского обиходно-разговорного языка (Umgangssprache), основным экспонентом которого в Австрии является венский городской полудиалект (das Wienerische).27 Безусловно, подобные крайние взгляды не получили широкого признания, но для многих в Австрии того времени речь шла об осознании всех национальных ценностей культурной и духовной жизни общества, среди которых вопросы национально адекватных форм речи занимали особое место.
Во многих своих работах Г. В. Степанов рассматривает аналогичные ситуации в отношении испанского языка в различных странах Латинской Америки. Наиболее резкое выражение идея так называемого «языкового национализма» получила в Аргентине, где идеологической предпосылкой и основой лингвистического сепаратизма
были революционные события периода войн за независимость (с 1810 г.) и возникновение аргентинской нации. Одним из самых активных сторонников движения за национальный аргентинский язык был поэт X. М. Гутьерес, предпринимались и другие попытки теоретического обоснования права «аргентинского языка на обособление» (Люсьен Абей). В начале XX в. в Чили получила широкое распространение идея чилийского национального языка, выдвинутая Миррором, авторам нашумевшей книги «Чилийская раса» (Raza chilena), а также профессором X. Сааведрой, выступившим со статьей «Наш родной язык» (Nuestro idioma patrio).28 Во всех этих и других аналогичных случаях общим является то, что вопросы языковые здесь тесно переплетаются с вопросами политическими. Они показывают, что связь языка с социальной действительностью интересовала не только и не столько языковедов, сколько политиков, поэтов, писателей, государственных деятелей и просто носителей языка. В оценке характера связи языка и общества огромную роль играет субъективный фактор, но «не в смысле индивидуального почина (хотя бы он и был подхвачен многими субъектами), а в смысле проявления сознания и воли говорящих по отношению к родному языку». И наконец, «чисто языковедческие соображения» в защите языка играют роль вспомогательную, но не главную и отнюдь не основную, на первый план выдвигаются аргументы, взятые из социальной реальности.29
При разработке теории национального варианта единого языка Г. В. Степанова, как и других исследователей этих проблем, глубоко интересовали вопросы источников, способствовавших процессам развития национальных форм речи и определявших характер их специфических особенностей. Отмечалось, что в этих процессах определенную роль играли собственные (местные) диалекты и другие формы существования языка (городские диалекты и полудиалекты, обиходно-разговорные формы языка), однако подчеркивалось, что значение этого источника не следует преувеличивать или чрезмерно обобщать. В этой связи Г. В. Степанов специально обращал внимание на то, то в целом единство испанского языка, функционирующего в испаноязычных странах Америки и Европы, сохраняется, во-первых, потому, что испаноязычная Америка получила достаточно униформированный язык не только в литературной, но и в народно-разговорной форме, а во-вторых, потому, что факторы, которые приводили в свое время (феодальная эпоха) к диалектной дробности, перестали действовать в период образования другого общественного уклада (капиталистического).30 Не отрицая определенной роли этого языкового источника, воздействующего на процесс формирования дифференцирующих черт варианта языка, необходимо подчеркнуть, что значительная часть выявляемых между национальными вари антами расхождений возникает в результате неадекватного выбора факультативных вариантов на уровне нормы из некоего «набора инвариантных конститутивных признаков, присущих данному языку на любой территории его распространения».31 Такие факультативные варианты на уровне нормы, будучи реализованными и принятыми
в том или ином национальном коллективе, превращаются в «аксиологическую», т. е. оценочную, норму, служащую в качестве масштаба при оценке соревнующихся объективных норм с точки зрения правильности/неправильности, образцовости/необразцовости, и становятся обязательными для данного узуса.32 Такой выбор часто сопряжен с поляризацией дублетных форм между данными вариантами языка. Межвариантные расхождения возникают также и на системном уровне на основе языковых элементов, являющихся либо результатом развития собственных материальных и творческих возможностей языка, либо результатом влияния других языков на основе собственных контактов. При этом Г. В. Степанов подчеркивал, что установление типов выбора («на уровне нормы», «на уровне системы»), разумеется, носит несколько условный характер, как и сам термин «выбор». Взаимодействие структур — системы и нормы — в сущности не допускает отрыва одной от другой. В системе не может появиться ничего такого, чего не было бы уже в норме, но и само изменение нормы есть не что иное, как реализация определенной возможности, уже существующей в системе. Разделение, подчеркивает Г. В. Степанов, вызвано желанием яснее показать, что для варьирования в пределах одного языка в отличие от отдельных (расходящихся) языков характерны «нормальные» изменения, а не системные.33 Таким образом, в целом национальный вариант литературного языка — это вариант нормы и самой системы языка.
Понятие варианта литературного языка, как это видно из всего сказанного о путях его развития и функционирования, не создает никаких условий для сравнения его с диалектом, даже если допустить, что при этом имеется в виду метафорическое описание отношений национальных разновидностей одного языка с исходной или исторически основной формой данного языка (например, латиноамериканские формы в сравнении с пиренейским испанским языком). Дело здесь не только в статусе всех национальных вариантов одного языка, в соответствие с которым все они равноправны и равноположены и между ними нет тех отношений взаимодополнения на речевой оси, которые обычно устанавливаются между литературным языком и диалектом. Подобное сравнение неприемлемо прежде всего потому, что в любом национальном варианте языка (аргентинском, американском, австрийском), помимо литературного языка, обладающего, как мы знаем, своими национальными особенностями, выявляются собственные местные диалекты, которые соотносятся с литературным языком данного национального ареала точно так же, как они соотносятся с литературным языком на исходной, «исторической» территории данного языка (Испания, Англия и т. д.). Так, в пределах распространения австрийского варианта немецкого языка (Австрия) мы имеем дело преимущественно с так называемыми баварско-австрийскими диалектами, тогда как в ареале германошвейцарской общности Швейцарии литературный язык соотносится только с алеманнскими диалектами.
Национальные варианты литературного языка необходимо отличать и от так называемых территориальных вариантов или, точнее,
от определенных совокупностей местных особенностей, которые могут развиваться во всяком литературном языке с достаточно обширным ареалом распространения или на основе заметно различающихся между собой диалектов, как например в немецком языке обоих германских государств — ГДР и ФРГ. Хотя как национальному варианту, так и территориальным разновидностям литературного языка свойственно культивирование местных (диалектных, территориальных) языковых особенностей, в национальном варианте эта местная специфика дифференцирующих факторов представляет собой лишь один из источников развития, в то время как питательной средой для территориального варианта является этот местный (диалектный, ареальный) языковой материал. При этом совокупность этих местных черт, как правило, не входит в кодифицированную норму языка, тогда как в национальном варианте литературного языка эта местная (национальная) специфика образует основное ядро самой нормы данного варианта. К этому следует добавить, что в национальных вариантах, точно так же, как и в любом национально гомогенном литературном языке или в исходной («исторической») форме данного литературного языка (например, в испанском литературном языке Испании), могут развиваться собственные территориальные особенности, не охватываемые кодифицированной нормой языка.
Если говорить о совокупной структуре национальной речи отдельных наций — носителей одного общего языка (латиноамериканские нации, американцы, австрийцы, германошвейцарцы), то необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что в ней выделяются, как мы можем заключить из всего сказанного ранее, все необходимые элементы языковой иерархии, принципиально характерные для любой структуры национального языка: литературный язык, диалекты, различные обиходно-разговорные формы языка (полудиалекты, территориальные и областные говоры и др.), т. е. структура национального варианта языка воспроизводит структуру любого самостоятельного национального языка, не образуя отдельного языка, но создавая национальный вариант по отношению к исходному, «историческому» национальному языку (испанскому национальному языку Испании, английскому национальному языку Великобритании и т. д.). Так, в австрийском варианте между полярными разновидностями форм национального языка — литературным языком и диалектами — выделяются такие промежуточные формы, как полудиалект, территори альные обиходно-разговорные языки (Verkehrsmundarten) и австрийский обиходно-разговорный язык (österreichische Umgangssprache), тогда как в немецкоязычной Швейцарии в структуре речи германошвейцарцев выделяются лишь местные (кантональные) диалекты и литературный немецкий язык швейцарской окрашенности, а в функции обиходно-разговорного языка используются местные (алеманнские) диалекты (Schwyzertütsch), которые в силу своей однородности взаимопонятны в национальных пределах. Обобщая сказанное, мы можем заключить, что понятие варианта распростра няется и на совокупную структуру данной национальной речи.
Именно в этой связи Г. В. Степанов подчеркивал: «Испанский язык Америки есть разновидность (вариант) структурно единого испан ского языка в совокупности особенностей его новых общенародных форм и местных диалектов и говоров».34 Следовательно, говоря о национальном измерении литературного языка, мы используем понятие национального варианта литературного языка, а имея в виду совокупность всех форм, в которых существует в целом язык данной нации (литературный язык, обиходно-разговорные формы языка, диалекты), мы можем говорить о варианте языка (национальном варианте языка). Оформление совокупности форм существования языка в составе варианта в самостоятельные социолингвистические единицы, подчеркивает Г. В. Степанов, не обязательно приводит к различию в их названии: франко-канадский вариант называется французским языком Канады, а португало-бразильский — португальским языком Бразилии и т. д. Однако известны и такие случаи, когда объективно возникающая вариативность внутренней структуры и формирование самостоятельных внешних систем, которые реализуются в различных социумах, находят отражение в различии названий. Пример тому названия «молдавский язык», «румынский язык»».35
Придерживаясь такого представления о характере строения национальных вариантов языка, можно заключить, что совокупность всех национальных реализаций одного общего языка образует своеобразную корреляционную архисистему. В лингвистическом плане это соответствует ситуации, при которой один общий язык существует как абстракция и практически реализуется в виде отдельных вариантов, точно так же и полинациональный литературный язык обозначает «некую совокупность частных вариантных подсистем, то есть лингвистическую ситуацию, при которой единый литературный язык является скорее тенденцией или идеальным заданием, нежели реальностью».36
Необходимо отметить, что как объекты лингвистического исследования общий язык и полинациональный литературный должны сополагаться на равных правах друг с другом. Отмечая это, в частности, в отношении вариантов испанского языка, Г. В. Степанов подчеркивал, что пиренейская национальная речь, «являясь исторической „точкой отсчета“ не воплощает в себе в нынешнем своем состоянии безусловного идеала общего испанского языка».37 (Кстати, заметим, что выделение «исторической» точки отсчета в норме языка, как и самой «исходной» или «исторической» формы языка, мы можем сделать только в отношении испанского или английского языка, где за таковые формы можно принять пиренейскую форму испанского и британскую форму английского в сравнении с «трансплантированными» американскими ипостасями этих языков, поскольку в немецком все национальные варианты являются одинаково исходными и историческими.) Настаивая на автономности, практической и юридической самостоятельности языка в его национальном измерений, Г. В. Степанов заключал: «Если не существует отдельного аргентинского языка, то реальностью явля-
ется испанский язык аргентинской нации. Аргентинцы владеют испанским языком как собственным национальным достоянием (точно так же, как два десятка других испаноязычных наций)».38 Обобщая наблюдения над историей становления и судьбой различных национальных форм единого языка, можно отметить, что национальные варианты в целом обладают совокупностью таких признаков, которые не только обеспечивают им известную стабильность, но и несут в себе тенденции дальнейшего развития в русле этих форм. И это происходит при всем том, что в современных условиях взаимного общения и средств массовой коммуникации наблюдаются тенденции к взаимному сближению, т. е. в направлении конвергенции языков и их вариантов. Рассуждая о действии этих сил в настоящее время, А. Мартине, в частности, говорил о том, что причиной «языковой дифференциации является не расстояние как таковое, а ослабление внутриязыковых связей». Он подчеркивал, что если «увеличение расстояния компенсируется упрочением коммуникативных связей, языковое поведение остается тем же: пока на то, чтобы пересечь Атлантический океан, требовались недели, развитие английского языка Англии отличалось от английского языка Америки; железнодорожная лексика Англии отличается от американской как в целом, так и в деталях». Развивая эти сравнения, он продолжал: «Иные условия мы имеем теперь, когда на преодоление расстояния между Нью-Йорком и Лондоном требуется всего несколько часов, а звук голоса пересекает океан почти мгновенно. Поэтому сегодня можно говорить скорее о конвергенции, чем о дивергенции». «Если в один прекрасный день, — заключал он, — граждане Советского Союза откроют обсерваторию на Луне, то едва ли возникнет особый лунный диалект русского языка, при условии, конечно, что между Луной и Землей будет поддерживаться постоянная связь».39 Нельзя не оценить остроумную образность А. Мартине, но в случае с национальными вариантами языка, исторически сложившимися в своем территориальном и социальном пространстве, мы имеем дело не только с фактором расстояния (австрийский и германошвейцарский варианты с самого начала складывались в условиях непосредственного территориального контакта) и интенсивности взаимного общения различных социумов, но со всей совокупностью условий самостоятельного существования национально-государственных общностей людей — носителей данного языка. Конечно, в современных условиях, о которых говорит А. Мартине, национальные варианты одного языка развиваются более или менее параллельно, а общие наднациональные тенденции в языковой нормализации будут постоянно приводить к процессам нивелирования различий между ними. Однако варианты языка, как показывает и опыт нашего времени, несмотря на все предсказания, не сливаются полностью, а местные языковые отношения, национальная литература, духовная и материальная культура всегда будут давать новый материал для существования национальных вариантов. Именно по этим причинам трудно представить, что в настоящих условиях любое сближение может привести к сложению какой-либо
образцовой паниспанской или пангерманской нормы, так как при всех попытках выделения некоего объективного «нормального» (образцового) пласта, равноудаленного от каких-либо специфических (национальных) черт, всегда будет оставаться «целый ряд явлений, нормативность которых определяется престижем, авторитетом той или иной формы речи».40
Оценивая наблюдающиеся уровни дифференцированного (дивергентного) развития литературных языков в своем собственном территориальном и социальном пространстве, лингвисты отмечают, что, например, европейские разновидности французского языка (Бельгия, Швейцария) не обнаруживают значительных расхождений и образуют в этом отношении наиболее «слабый» ряд, тогда как британский и американский варианты ныне представляют собой полно сформировавшиеся национальные формы речи, обладающие собственной кодифицированной нормой, тем самым как бы замыкающие ряд классификации таких языков по степени интенсивности развития отличительных черт.41 Однако сколь бы малыми ни были различия в вариантах тех или иных языков, они приобретали и могут приобретать «престиж национальных форм речи»,42 становясь и средством национальной идентификации.
Разработка концепции национального варианта языка, осуществленная в нашем языкознании в 60-е годы, стала новым вкладом в теорию национального языка и послужила началом для исследования национально-языковых отношений во многих других языках мира. Следует согласиться с мнением видного лингвиста из ГДР В. Фляйшера, когда он, говоря о процессе формирования этой теории в советском языкознании, отмечает, что пройденный путь не был «прямолинейным» (geradlinig).43 Действительно, потребовалось пройти не только через сдержанное отношение со стороны некоторых из тех, кто занимался традиционным кругом вопросов национальных языков («одна нация — один язык»), но и преодолеть ошибки и заблуждения других в их попытках подойти к сущностной и терминологической интерпретации состояния неидентичности языка, обслуживающего различные социально-языковые общности. Заслуга в создании и укреплении этого нового научного направления бесспорно принадлежит Г. В. Степанову, теоретическое значение работ которого высоко оценил еще в самом начале акад. В. В. Виноградов.44 Говоря о значении этой концепции для современного языкознания, В. Фляйшер призывает лингвистов к более интенсивному теоретическому отклику (Reflexion) на нее и подчеркивает, что она «соответствует традициям советской социолингвистической школы (Forschung) и является очередным свидетельством ее продуктивности».45
. . .Испания, Великая Отечественная война, фронт и партизанский отряд. . . страшный недуг и смерть: он позднее других пришел в науку и рано ушел из нее навсегда. Но то, что успел сделать акад. Г. В. Степанов, останется долго служить филологии, составит памятные страницы ее истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 259—261.
2 Вольф Е. М., Степанов Ю. С. Краткий очерк научной, педагогической, научно-организационной и общественной деятельности // Георгий Владимирович Степанов. М., 1984. С. 11 (Материалы к библиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. Вып. 16). 3 Степанов Г. В. Испанский язык Америки в системе единого испанского языка: Автореф. докт. дис. Л., 1966. 4 Бах А. Немецкая диалектология // Немецкая диалектография. М., 1955. С. 112. 5 Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Изв. АН СССР. VII сер. Отд. общ. наук. 1931. № 1. С. 116, 118. 6 Аракин В. Д. К вопросу об английском языке в Америке // Иностранный язык в школе. 1937. № 1. С. 59—66; № 2. С. 89—94. 7 Братусь Б. В. Теория «американского языка» на службе у империалистов // Иностранные языки в школе. 1948. №4. С. 28—36. 8 Смирницкий А. И. Древнеанглийский язык. М., 1955. С. 16. 9 Ризель Э. Г. К вопросу о национальном языке в Австрии // Учен. зап. I Моск. гос. пед. ин-та ин. яз. Харьков. 1953. Т. V . С. 163. 10 Степанов Г. В. Проблемы изучения испанского языка Латинской Америки // Вопр. языкознания. 1957. №4. С. 24. 11 Степанов Г. В. О национальном языке в странах Латинской Америки // Вопросы формирования и развития национальных языков. М., 1960. С. 157. (Тр. Ин-та языкознания АН СССР. Т. 10). 12 Вольф Е. М., Степанов Ю. С. Краткий очерк. . . С. 17. 13 Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. М., 1963. 14 Степанов Г. В. Испанский язык Америки в системе единого испанского языка. 15 Швейцер А. Д. Очерк современного английского языка в США. М., 1963. 16 Домашнее А. И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М., 1967. 17 Реферовская Е. А. Французский язык в Канаде. Л., 1972. 18 Степанов Г. В. Испанский язык Америки. . . С. 20. 19 Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. С. 8. 20 Мартине А. Основы общей лингви- | стики // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3. С. 393.
21 Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. С. 8. 22 Степанов Г. В. О двух аспектах понятия языковой нормы (на испанском материале) // Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных романских языков. М., 1966. С. 233. 23 Там же. С. 235. 24 Там же. 25 Там же. С. 231. 26 Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969. С. 250. 27 Das österreichische Wort / Landesjugendreferat Niederösterreich (Hrsg.) Wien, 1961. N 17. 28 Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976. С. 190—194. 29 Там же. С. 196. 30 Степанов Г. В. Испанский язык Америки. . . С. 23. 31 Швейцер А. Д. Очерк. . . С. 17. 32 Степанов Г. В. Испанский язык Америки. . . С. 226. 33 Степанов Г. В. К проблеме языкового варьирования: Испанский язык Испании и Америки. М., 1979. С. 62—64. 34 Степанов Г. В. Испанский язык в странах Латинской Америки. С. 9. 35 Степанов Г. В. Типология языковых состояний. . . С. 116. 36 Там же. С. 103. 37 Степанов Г. В. Социально-географическая дифференциация испанского языка Америки на уровне национальных вариантов // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969. С. 306. 38 Степанов Г. В. Типология языковых состояний. . . С. 121. 39 Мартине А. Основы общей лингвистики. С. 512. 40 Степанов Г. В. О двух аспектах. . . С. 235. 41 Andersson S.-G. Deutsche Standardsprache — drei oder vier Varianten // Muttersprache. 1983. H. 5—6. S. 259. 42 Степанов Г. В. Испанский язык Америки. . . С . 23. 43 Fleischer W. Zum Begriff ‘nationale Variante einer Sprache’ in der sowjetischen Soziolinguistik // Linguistische Arbeitsberichte. Leipzig, 1984. N 43. S. 67. 44 Виноградов В. В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967. С. 52. 45 Fleischer W. Zum Begriff . . . S. 71. |